 В Белоруссии во время Великой Отечественной войны сгорели заживо жители не одной лишь Хатыни. Екатерина Васильевна СВИРИКОВА, жительница ст. Фастовецкой, тоже ждала смерти в огне от рук немецких coлдaт.
В Белоруссии во время Великой Отечественной войны сгорели заживо жители не одной лишь Хатыни. Екатерина Васильевна СВИРИКОВА, жительница ст. Фастовецкой, тоже ждала смерти в огне от рук немецких coлдaт.
А после немецкая семья полюбила ее, как родную. Екатерина Васильевна рассказала нам свою необыкновенную историю.
- Нашу деревню Виленки бомбили уже в четыре часа утра 22 июня. Сначала несколько бомб разрывных сбросили, а потом термитные. А от них все стало загораться. Люди, кто жив остался, выскакивали из домов, кто в чем был.
Потом стали немцы наступать. Некоторые наши солдаты со своими не ушли, остались в лесах. Другие оружие схоронили и по деревням разошлись. Тут немцы пришли. В нашей деревне они не стояли, у них табор был в Шмаках, километров 25 от нас. Стали немцы по деревням ездить. Забирали всё подчистую: и вещи, и продукты, хватали людей, особенно молодёжь.Тут народ и стал разбегаться по лесам. Вырыли там землянки, днем хоронились где-нибудь, а на ночь сходились. В землянке печка-буржуйка, нары широкие. Намерзнемся за день под елками, наголодаемся. На буржуйке сварим ведерный чугун борщевого бурака, без соли, без ничего. И лепешки пекли: толкли мох болотный и картофельные очистки. Поедим, кипятка попьем и покатом все на нары ляжем. А ребята всю ночь в карауле стоят, чтоб каратели не подошли незаметно. А то они долго не разговаривали: гранату в землянку, и все.
Каратели стали облавы устраивать, убивать жителей с той поры, как начали партизаны воевать. Первые партизаны - это те солдаты, которые со своими не ушли. Потом к ним стали ходить наши мужики, парни. Уходили не все. И вот немцы стали этих уговаривать идти им служить: в обслуге, старостами, полицаями. Многие из этих, которые перешли на сторону немцев, помогали, и здорово помогали своим. Немцы задумают захватить партизанский табор, придут, а там никого. Уже предупредили. И о том, какие поезда будут идти, тоже предупреждали. Уже в первую военную зиму стали немецкие эшелоны взрываться. Тоже эти люди сообщали. Их потом подпольщиками назвали.
Мой отец тоже партизанам помогал. Наша хатенка стояла с краю. Стали отцу поручать сначала сообщения другим партизанам передавать. А потом он у партизан стал проводником. Некоторые отряды даже до линии фронта по лесам доходили, потом переходили ее и уже воевали в армии.
А за ранеными и больными стали прилетать наши самолеты. Видела я, как это бывало. В лесу, на поляне побольше, навалят несколько куч хворосту и соломы. И вот ночью, когда самолет должен прилететь, поджигают костры. Самолеты привозили оружие, радио (рацию - Т.Б.), лекарства, а с собою раненых и больных забирали.
Привозили самолеты и продукты. Да только много разве самолетом привезешь? Кормили партизан мы. Что ни ночь, они идут, хочешь не хочешь, а отдаешь им то, что немцы не нашли. Никакого скота не осталось - что немцы не забрали, то партизаны угнали. Днем немцы шуруют по деревням, ночью наши. В деревнях к тому времени остались только старики и дети. А мы тоже только по ночам в свои дома приходили. Выгребали всю молодежь. Парней в Германию отправляли сразу, а девчат многих оставляли как обслугу. Как эти зверюки над бедными девчатами издевались! Не дай Бог было к ним в табор попасть. Лучше пусть сразу убьют.
Много народу пропало. И облавы немецкие людей стреляли или взрывали, кто-то под бомбежку попадал, кто в партизанах погибал. Погиб и мой отец. В 42-м году. Пришел он домой (мать из деревни не уходила). И мы домой все сбежались, с отцом увидеться. Он сидит за столом, песню какую-то себе поет. Мать ему говорит: "Василь, по дороге что-то стучит. Как бы не немцы". "А пусть, - говорит, - идут". Но оделся, шапку свою лохматую надел. Мы побежали прятаться, а он не успел. Деревню оцепили, всех мужиков выгнали. Глядят, у отца из шапки сверху листок торчит. Хвать, а это афиша первомайская. Это ему знакомый дал на самокрутки. Отец пожалел ее выбрасывать, бумаги не было ни клочка, а лучше бы выбросил. Немцы развернули, а там портрет Сталина. И у того мужика, что отцу афишу дал, тоже пол-афиши оказалось, точно такой же, со Сталиным. Их сразу в сторону, а с ними еще Костю, парня молодого, отцова крестника. А нам из лесу видно, что он вроде свободно идет, не под конвоем. Мы следом побежали. Слышим, кричит кто-то: "За что моя жизнь пропадает?". И потом - бах, бах! И Костя с пистолетом выходит. Он иx и убил. Крестного своего убил, чтоб самому спастись.
Убежали мы снова в лес. Как мы там бедовали! Целый день где-нибудь прячешься, а зима, а у нас одежда плохая. В землянку вечером придешь, а там сыро, к утру опять нахолодает. Еды почти никакой. Начался тиф. Заболели и мы со старшей сестрой. Нашу хатку в Виленках немцы развалили к тому времени. Мать попросила бабушку знакомую из другой деревни приютить нас. У нее дом был теплый, и немцы его не тронули, хотя многие дома развалили - из бревен строили доты. Лежим мы у бабушки, горим. Я в сознание приду и вижу: сестра бредит, стенку царапает и просит: "Братик, принеси яблочек!". А мне до того самогона захотелось! Бабушка-хозяйка принесла яблок, дали их моей сестре вволю. И она стала поправляться. А мне нашли самогону, я немножко выпила и заснула. Постепенно и я поправилась. И мама забрала нас в нашу землянку. Это уже была весна сорок третьего года.
10 июня, как раз на Троицу, мама послала нас с передачкой к этой самой бабушке. Пошла я с младшей сестрой Ксеней. Только мы к бабушке в дом зашли, а тут каратели наехали. Оцепили всю деревню, всех из домов выгоняют. Построили нас шеренгой и погнали через лес со всех сторон, по сторонам конвой с автоматами. Пригнали к другой деревне. Там на краю большой сарай, а в нем уже битком народу, и нас туда же загнали. Мы все кричим, плачем, друг с другом прощаемся. Сарай соломой со всех сторон обложили, каратели в своих фуражках загнутых стоят, у каждого автомат на груди, а у ног - канистра с бензином. Мы все стали на колени, и молимся кто как может. Последний час пришел! А в дверях баптист встал и начал громко по памяти молитвы говорить. Офицер, смотрим, через переводчика спрашивает что-то. Оказывается, спросил, что тот человек говорит. Переводчик ему: "Он Евангелие читает". И вот этот офицер снимает с груди автомат. Мы все онемели, ждем - вот, сейчас! А он кладет автомат на землю и командует, чтоб нас выгоняли из сарая. Оборонил нас Господь! Не сгорели мы заживо.
Построили нас снова и погнали по лесу, по болотам. Много людей было больных или слабых после болезни. Тех, которые падали, немцы тут же убивали. И вот пригнали нас за какую-то деревню, на лугу баз большой из бревен, туда нас и загнали. Вокруг немцы с автоматами стоят. Сейчас, думаем, побьют тут нас всех. А уже не плачет никто. Даже когда своих по дороге убивали, никто не плакал. Так намучались, что было уже все равно.
Только сидим мы в базу день, другой, а нас никто не трогает. Значит, будут в Германию угонять. И точно, зашевелились люди, встают, их немцы подгоняют. У выхода стоят полицаи. Я Ксене говорю: "Когда я начну с немцем разговаривать, ты спрячься за полицаями". Так и вышло. Я вроде спрашиваю что-то у охранника, он оглядывается, переводчика ищет, а Ксеня в этой толпе от меня отошла и среди полицаев скрылась. Я оглянулась, а ее уже за ними не видать. И никто ее не выдал.
А нас всех разобрали по возрасту. И вот подъезжают крытые грузовики. Нас туда, как бревна, побросали. И повезли в Бобруйск. А там в теплушки, и поехали. Ох, и быстро ж мы ехали! Только два раза останавливались. Оказывается, пути были взорваны. Потом узнали, что взорвали и состав, который после нас шел. В том составе людей не было. Знали партизаны, когда своих везут, эти составы не трогали.
И вот привезли нас в Кёльн, возле Кёльна - городок Вупперталь. Там нас опять за проволоку загнали. Мы сидим, а немцы приезжают и забирают нас, когда одного человека, когда человек по тридцать. А мы не знаем, куда их увозят, этих людей, думаем, убивать будут. Опять стали бояться. Особенно семейные (были там и такие) боялись, что у них детей заберут. Бывало и так, по-всякому бывало. И вот на третий день я смотрю: ходит по лагерю мужчина коренастый, лет сорок ему, а может, больше, и лицо у него такое доброе. Этот немец тоже людей выбирал. Подошел ко мне, я голову нагнула, а он подбородок мой приподнял, улыбнулся: "Гут, гут".
Забрал он меня oднy, и пошли мы с ним по Вупперталю. Небольшой городок, видно, его уже бомбили. Привел меня на свою фабрику. Маленькая была фабричка, там делали горчицу и раскладывали по баночкам. Народу немного, среди них - два наших парня, русский и хохол. Тут вскоре приходит хозяйка, забирает меня. Отвела меня в баню, а после бани мне всю одежду новую дала: сарафан атласный, кофточку, туфли, носочки белые. Потом отвела меня в парикмахерскую. У меня волосы после тифа стали редкие, а все равно, когда завивку сделали, так я себе понравилась! Молодая была, красивая. Ничего, кроме добра, от своих хозяев не видела. Они меня чуть что: "Катья! Катья!" - и берут к себе. Кормили хорошо, и не только меня. А когда загудят сирены, значит, бомбежка скоро, они бегут за мной и тащат в бомбоубежище. Один раз мы вышли после бомбежки, глядим - пятиэтажный дом разбомбили, а на пятом этаже комната цела осталась, и там за столом сидит женщина. Весь дом разбило, а она жива осталась. Мы между собой толкуем: "Видно, пожалел ее Господь за доброту". Вот и наших хозяев Бог жалел. Ни их дом не разбомбило, ни фабричонку.
В начале мая 45-го года прибегает ко мне паренек-хохол и кричит: "Война кончилась!". Немного погодя смотрим: по улицам идут солдаты. Форма на них не наша, а похожи на наших: тоже много светловолосых. Это англичане были. Стали нас, кого в Германию пригнали, собирать. А меня хозяева просят: "Катя, останься! Ты нам будешь как дочка". Своих детей у них не было, а я им сильно понравилась. Веселая я была, говорливая, быстрая. Так они меня просили! А как я останусь? У меня душа болит за своих: живы они, здоровы? Мама, сестры, брат - все в Белоруссии остались. Да и тянуло на родину, страшно тянуло. А англичан мы упросили, чтобы наших хозяев не трогали.
Попала я домой только в 46-м году, после всех лагерей для перемещенных. И только там узнала, что наши места освободили через несколько дней после того, как меня увезли в Германию. Когда из танка вышел солдат и все увидели, что солдат - наш, побросали все свои землянки, сбежались на просеку. Такой был крик - до неба! И смеются, и плачут. Плачут больше. В каждой семье кто-нибудь погиб.
Страшное было время, страшное! Не дай Бог вам все это увидеть!
 «Тихорецкие вести»
«Тихорецкие вести»





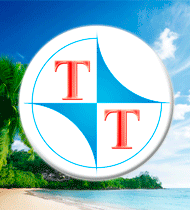
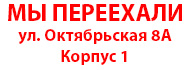





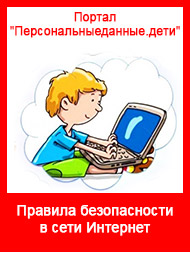


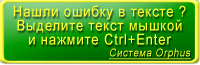 Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter